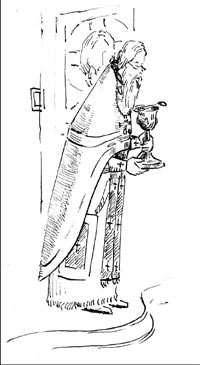Книги, книги, книги... Соблазнов в начале 1980-х было гораздо меньше, чем теперь, в XXI веке. Все тогда жили примерно одинаково: небогато и стесненно; если кто и был богат, то вынужденно скрывал это. Притом культурный уровень среднего россиянина был заметно выше, чем теперь, и книги пользовались всенародной любовью и каким-то сверхъестественным, прямо-таки нечеловеческим спросом... Если до 1917 года тираж обычно составлял три, много пять тысяч и при этом раскупался совсем не моментально (у меня есть каталоги начала XX века: "Всегда на складе имеются следующие издания..."), то в середине 1980-х трехтомник Пушкина разошелся по подписке в количестве 10 700 000 (десять миллионов семьсот тысяч!) - и тут же стал предметом спекуляции. Что уж тут говорить про жалкие тиражи в триста - пятьсот тысяч экземпляров! Ну а если сто тысяч или меньше - хорошая книга сразу становилась драгоценной редкостью. Например, томик стихотворений Пастернака из Большой библиотеки поэта доходил в цене до ста двадцати полновесных советских рублей. Для ясности скажу, что в те годы у многих это была среднемесячная зарплата. Квартиру мы примерно в то же время снимали за восемьдесят рублей в месяц. Приведенные цифры свидетельствуют, что книги тогда были ценностью особой.
Но речь не о книгах, а о связанном с ними чуде.
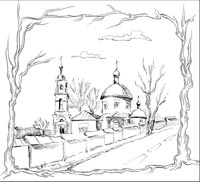
Чудеса Божьи часто совершаются через людей. Но кто бы мог подумать, что участницей чуда станет меланхоличная Маринка Ромашкина, одолжившая у нас, внезапно потерявших бдительность, сто рублей. Тридцать она - не скоро и со скрипом - вернула, а оставшиеся семьдесят, похоже, решила оставить себе. Между тем денег порой катастрофически не хватало, и я частенько поминал лихом злодейку Ромашкину, ограбившую и без того нищую семью студента...
Через некоторое время мы с сыновьями Данилой и Митей крестились. Православную веру я принял сознательно и, как мне казалось, всерьез старался понять ее и жить ею. Но, как и у большинства новоначальных, самооценка была искаженной, и темное прошлое продолжало в душе свое существование. Например, зная, что православный христианин не должен помнить обиду, но обязан прощать долги, я тем не менее частенько замечал за собой мысли вроде "а Ромашкина-то, собака, денег так и не вернула, дрянь этакая". Отмахивался от собственной подлости как мог, да ведь подлость - не муха, она внутри живет.
И вот однажды стою я вечером на молитве, читаю "Отче наш", а мысли, как это, к сожалению, часто бывает, ушли в сторону, - и вдруг с ужасом ловлю себя на том, что, привычно произнося эти страшные слова - и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим, - я думаю про скотину Ромашкину, которая, подлюка, должок-то так и не отдала...
Зрелище внезапно раскрывшегося собственного двоедушия было впечатляюще безобразным. "Господи, прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим" - и параллельно мысль вроде "да пропади она, эта зараза". Получалось, что я молюсь о собственной погибели. Стало по-настоящему страшно, я рухнул на колени и завопил от всего сердца, крепко ударяя лбом в пол: "Господи, прощаю ей эти дурацкие семьдесят рублей! Искренне прощаю! Помоги мне больше никогда не вспоминать об этом!"
Господь помог, и отлегло, и забыл начисто.
Между тем решительно задумал появиться на свет Александр, очередной мой сын. По этой причине срочно пришлось снять квартиру, причем не выбирая. Так мы оказались в Капотне - это то место, где Москва-река, вобрав в себя всю грязь великого города, вытекает за его пределы. Из окон на горизонте виднелись Николо-Угрешский монастырь и церковь Петра и Павла в Лыткарине. Ближайший храм, Рождества Христова в Беседах, был в получасе ходьбы от дома. Один из наших сыновей во время богослужения ужасно орал, боясь причащаться, и я не знал, что делать, пока не догадался обратиться за помощью к сокурснику Илье Рябцеву, который тогда был ревностным христианином. Он-то, собственно, вскоре после крестин и убедил меня в том, что, придя к вере, нужно быть в Церкви, а не болтаться где попало. Я пытался возражать, но Илья, взяв меня могучею десницею за темно-зеленый галстук (дело было на военной кафедре), отвел непокорного под лестницу и стал там душить аргументами, в привычной ему напористой манере четко выговаривая каждое слово: "А святой апостол Павел во Втором послании к Коринфянам говорит, что..."
Правда была за ними, и я все чаще стал ходить в храм, постепенно узнавая богослужение и проникаясь им. Первыми запомнились вызывавшие непонятную радость слова из ектеньи, которую дьякон произносил густым отчетливым все пронизывающим басом, так что отзывались, отзвякивали стаканчики лампад:
- Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию...